|
|
|
Семейная история
|
|
| nika | Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:00 | Сообщение # 1 |
 "НГОО "Молодая семья"
Группа: Друзья
Сообщений: 758
Награды: 26
Статус: Offline
| "Это у тебя в крови" - говорим мы. А что мы под этим подразумеваем? И как сплетает ребёнок свою жизнь с историей своей семьи? Что значит наша семья, фамилия, род для будущего каждого из наших детей.
|
| |
| |
| nika | Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:05 | Сообщение # 2 |
 "НГОО "Молодая семья"
Группа: Друзья
Сообщений: 758
Награды: 26
Статус: Offline
| Винцент де Гольжак Семья является привилегированным местом, необходимым для формирования социального человеческого существа и его социализации. Именно ее институциализация организует комплексные взаимоотношения между биологической репродукцией, направлением влечений в нужное русло и выстраиванием идентичности. Как структурированная и юридически организованная целостность, семья является посреднической инстанцией между индивидом и обществом, точнее, между миром фантазий, влечений, желаний и сферой правил, норм и местоположений. Воспринимаемая как привилегированное место любви и воспитания, семья конденсирует внутри себя все противоположности, являющиеся результатом перманентного столкновения между миром влечений и миром правил и иерархий.
Эти противоположности могут принимать множество форм, в частности, завязывающихся на необходимости примирить регистры супружества и родства, любви и генеалогии.
..
Родительство лежит в основе института семьи. Оно отвечает необходимости вписывать в цепь поколений каждого индивида в момент его рождения. Всякое общество должно давать каждой му некое место, идентичность, на основе которой он может на¬ладить взаимоотношения с другими. Выполнение данной роли обеспечивает прежде всего семья, внутри которой места обозная чены раз и навсегда, независимо от желаний каждого.
Если мужчина или женщина пожелают иметь ребенка, чтобы «реализовать себя» как отец и мать, то они могут решить растить его вместе или раздельно, зачать детей с другими партнерами, жить в разных социальных мирах... Но в конечном счете вовсе не они институируются «в качестве отца или матери». Они зависят от некоторого закона, который, переступая через заключенный между ними «контракт», фиксирует основы генеалогического порядка, устанавливая связи родительства и связи родства. Семья является «институтом, соединяющим различие полов и различие поколений. Различие, понимаемое в данном случае не как биологическая данность, а как некая институция, то есть символический монтаж, который объединяет и разде¬ляет, вводит в отношение и выделяет, давая возможность организовать магму отношений» (Thery, p. 68).
..
Итак, институт семьи находится на пересечении двух противоречащих друг другу логик, которые он тем не менее должен примирить: это сила желания и необходимость социализацйи.
Желание является разрушительным, оно стремится перейти границы. Более того, именно в нарушении запрета находят самое большое удовлетворение. Запрет скорее привлекает, чем останавливает. Логика любовного желания по своей наиболее радикальной сути состоит в том, чтобы вкладывать самого себя в другого, желать его, нежно лелеять.
Фрейд показал, что за этими наклонностями подспудно сто¬ят бессознательные желания, связанные с первыми объектами любви ребенка. Они структурируются вокруг нарциссизма и эдипова комплекса. Любовь является выражением некоего желания слиться — составлять одно целое с другим, объединиться в общем страстном порыве. На существо, являющееся объектом любви, проецируют качества, к которым стремятся ради собственного «Я» таким образом, что различие и схожесть стре¬мятся к исчезновению в слиянии между собой и другим.
..
Большинство людей, желающих работать над своей историей, делают это не ради того, чтобы в нее вписаться, а для того, чтобы от нее отделаться. Семья порой воспринимается скорее как тяжелая ноша, от которой стоит избавиться, чем как струк¬турирующие рамки, необходимые для развития всякого индивида. В таком случае история теряет свою значимость, И не потому, что ее не будет, а по той причине, что она не прожита как носитель будущего и фактор историчности. Наоборот, она тормозит, запирает, принуждает, доводя тем самым до создания субъекта ощущение того, что она является разрушительным элементом, от которого он должен уйти ради своего выживания. В некоторых историях груз несчастий столь тяжел, что наследник производит впечатление пораженного каким-то проклятием, обрекающим его на непрерывное повторение сценариев, уготовивших для него болезнь, смерть, насилие или сумасшествие.
«Груз истории»
Ребенок наследует противоречия, пронизывающие родовые линии, из которых он вышел, точнее, которые оставили отметину на жизни родительской пары. Родители передают своим детям следы конфликтов, которые не сумели или не захотели разрешить. Отсюда проистекает значимость трансгенерационной передачи тех или иных ситуаций, в которые попадали члены семьи: таинственные заболевания, душевные или физические, труднообъяснимые смерти, грубые и ненаказанные про¬ступки, непонятные утраты... Именно так возникают семейные тайны, которые, будучи призванными защищать членов семьи от стыда, бесчестья или потери надежды, дают обратный эффект. Далекие от того, чтобы оберегать потомков, они Скорее оказывают на них сильное воздействие, вплоть до того, что полностью структурируют их жизни.
...
Самый характерный симптом передачи социопсихических узлов заключается в специфической трудности найти свое место в семейной истории — как со стороны ее восприятия, так и со стороны передачи. Здесь присутствует генеалогический тупик, заключающийся в парадоксальной ситуации, которую | можно обозначить так: «Я не хочу быть тем, кто я есть». Субъект живет, как бы наполненный частями самого себя, продуктами бессознательных идентификаций, связывающих его с его предками. Но эти части себя он отвергает, поскольку они связаны с негативными чувствами или с очень неприятными ситуациями. Вопреки самому себе он ощущает себя вписанным в ли¬нию родства, которую отвергает и не может от нее отказаться, поскольку она лежит в основе его идентичности.
|
| |
| |
| nika | Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:08 | Сообщение # 3 |
 "НГОО "Молодая семья"
Группа: Друзья
Сообщений: 758
Награды: 26
Статус: Offline
| О том, как мы передаём семейную историю Винцент де Гольжак
Таким образом, речь идет о «тотальном» феномене, лежащем в основе социальных отношений и процессов конструирования идентичности, который вписывает каждого индивида в значимую последовательность — в историчность.
Отсюда вытекает интерес к «дефектам передачи», которые создают трудности перед субъектом, ограничивают их способность проецировать себя в будущее, лишая возможности придавать смысл прошлому. Молчание, ложь, запреты на знание, непроговаривание, парадоксальное предписание не дают возможности ребенку получить адекватные ответы, когда он обращается к семейной истории. Такой ребенок напоминает здание, у которого нет фундамента. Ему не хватает основ для того, чтобы утвердить свою идентичность. Определяющим здесь является не столько объективный характер семейных разрывов, сколько тот способ, с помощью которого история этих драм и страданий была передана. В процессе идентификации, формирования персональной идентичности важна не столько сама реальная история, сколько отношение предков к этой истории.
Возникает особый интерес к тому, каким образом детям преподносят жизненные сценарии и судьбы различных персонажей семейной саги, и особенно конфликтные ситуации и жизненные трудности: смерти, болезни, безумия, разорения, предательства, эмиграции... Манера изложения семейной истории позволяет не просто передавать определенные факты, но и указывать на то, какое значение им следует приписывать.
Один и тот же факт будет переживаться по-разному в зависимости от версии, в которой он излагается. Одно и то же самоубийство может быть преподнесено как постыдный акт, порочащий того, кто его совершил, или же как смелый поступок и утверждение свободы. Переезд в другое место или расставание могут быть помечены «клеймом» бегства от своих обязанностей или преподнесены как средство решения конфликтов. Незаконорож-денность или адюльтер могут быть представлены как факт, запятнавший честь семьи, или как событие, раскрывающее силу любви перед лицом социального конформизма. В конечном счете с помощью семейных рассказов потомкам передается своего рода «инструкция по экзистенциальному бытию». Таким образом, дорогие друзья, очень важно собирать информацию о предках, хранить её, рассказывать о семейной истории детям, рассказывать правдиво с ответственностью перед будущим ребёнка. Разрабатывайте генеологические древа, говорить и говорите о своих бабушках, дедушках, времени, в котором они жили. Ищите материалы о событиях, которые повлияли на вашу семью. Это очень важно для вас и ваших детей.
|
| |
| |
|
| Социальные услуги |

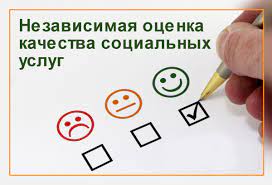
|
|

